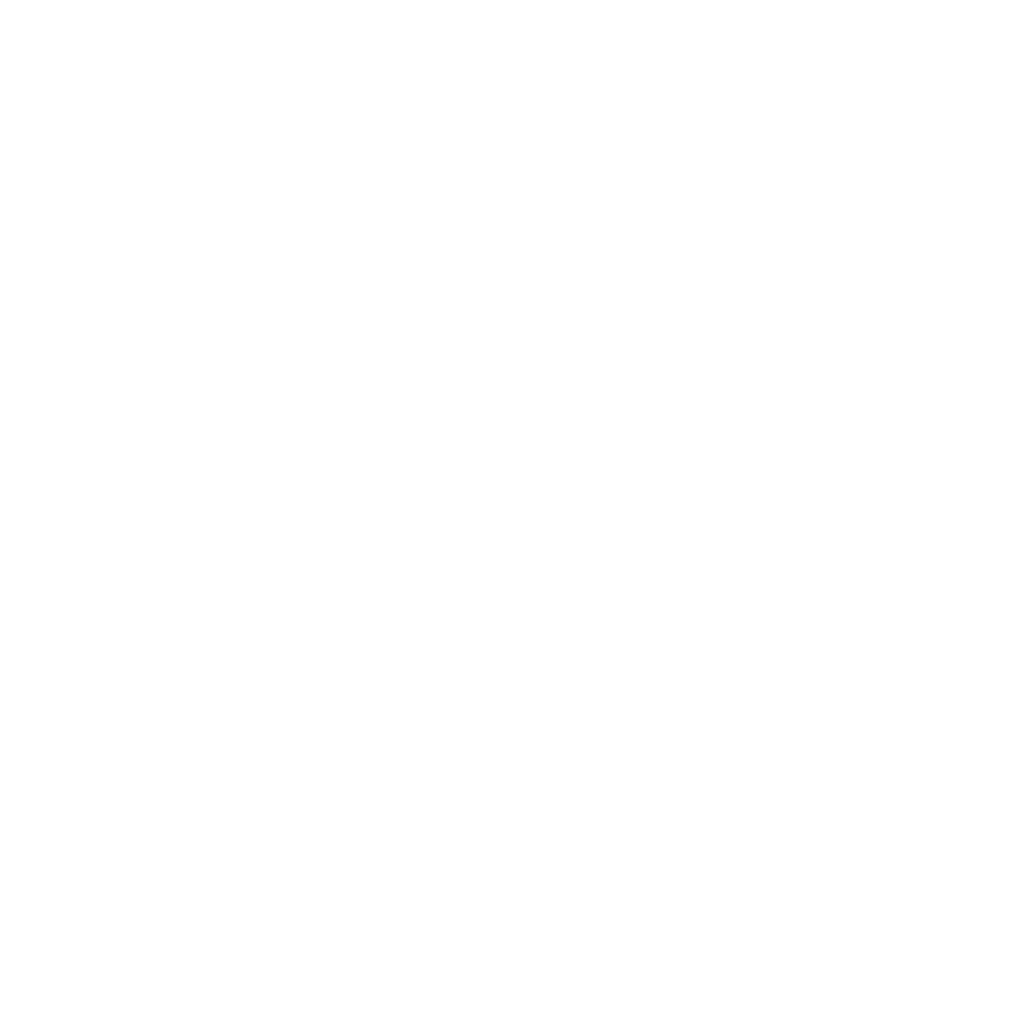
SUB ROSA
серия небольших рассказов
О музыке
Человек не может представить свою жизнь без изменений. Изменения – это надежда на лучшее, это путь к получению благодатного плода непрерывных усилий, это неясное предчувствие будущего счастья. Но иногда, рано утром, находясь на тонкой грани между сном и пробуждением, в те секунды, когда душа наиболее чувствительна к прекрасному, мне очень хочется стать беззаботным героем картины Фрагонара или Буше – да-да, именно рококо – или застыть в образе изящной фарфоровой статуэтки, но чаще всего хочется стать просто музыкой.
Человек не может представить свою жизнь без изменений. Изменения – это надежда на лучшее, это путь к получению благодатного плода непрерывных усилий, это неясное предчувствие будущего счастья. Но иногда, рано утром, находясь на тонкой грани между сном и пробуждением, в те секунды, когда душа наиболее чувствительна к прекрасному, мне очень хочется стать беззаботным героем картины Фрагонара или Буше – да-да, именно рококо – или застыть в образе изящной фарфоровой статуэтки, но чаще всего хочется стать просто музыкой.
~
О соавторстве
Один из главных постулатов деизма гласит: Бог создал мироздание вместе с правилами, по которым оно существует, и самоустранился, предоставив своим созданиям полную свободу действий. Завёл часовой механизм, а дальше – сами.
Это же утверждал Джордано Бруно: Богу «как абсолюту нет никакого дела до нас».
Центральной догмой творения в христианстве является Creatio ex Nihilo – сотворение мира из ничего. Общим местом является также то, что мир создан однажды и навсегда, и человек был создан последним, то есть никакого участия в процессе не принимал.
Если это так, роль писателя ограничивается отражением того, что он может увидеть и познать в этом огромном мире. Крохотная частица вселенной просто описывает то, что способны охватить её взгляд и воображение. Тут вспоминается притча о слепцах, ощупывающих слона, и японский сад камней «Рёандзи», в котором ни с одной точки невозможно увидеть их все.
Есть и другая точка зрения. Блаженный Августин, один из главных идеологов концепции создания мира из ничего, считал вместе с тем, что Бог ни на миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывное его творение. Если он «отнимет от вещей свою, так сказать, производительную силу, то их так же не будет, как не было прежде, чем они были созданы».
Или вот ещё, из его «Исповеди»:
«Не мать моя, не кормилицы мои питали меня сосцами своими, но Ты через них подавал мне, младенцу, пищу детскую, по закону природы, Тобою ей предначертанному, и по богатству щедрот Твоих, которыми Ты облагодетельствовал все твари по мере их потребностей».
Аналогичного мнения придерживаются авторитеты иудаизма. Одна из основополагающих идей хасидизма состоит в том, что Создатель творит мироздание ежесекундно. Адин Штейнзальц пишет: «Творение, таким образом, не должно пониматься как однократное действие, совершенное в Шесть дней Творения. Это продолжающийся процесс; Б-г все время творит мир».
А Ефим Свирский в своей книге «Перевоплощение» убедительно излагает простую мысль – так как всё есть Бог и Бог есть всё, и нет ничего, что бы им не являлось и что пребывает вне его, значит, мы его частички и живём в нём. Творец не только управляет миром, но и создал его сам из себя.
Такой же точки зрения придерживается, например, индийский философ Рамануджа – он утверждал, что всемогущий Бог сотворил многогранный мир из самого себя своим благоволением.
Идём дальше. Адин Штейнзальц в своей книге «Творящее слово» пишет:
«Мир создан из букв, и эти буквы сочетаются различными способами… <…> буквы не надо рассматривать только как часть алфавита; они суть элементарные силы, и в этом качестве они сочетаются разнообразными способами».
Но раз мы – частички Создателя, а он творит мир ежесекундно, то и мы, составляющие буквы в слова, а слова – в предложения, можем стать его со-творцами. Возможно, поэтому идеи писателей-фантастов часто воплощаются в жизнь.
Каждой волен выбирать тот вариант, который ему больше нравится.
Один из главных постулатов деизма гласит: Бог создал мироздание вместе с правилами, по которым оно существует, и самоустранился, предоставив своим созданиям полную свободу действий. Завёл часовой механизм, а дальше – сами.
Это же утверждал Джордано Бруно: Богу «как абсолюту нет никакого дела до нас».
Центральной догмой творения в христианстве является Creatio ex Nihilo – сотворение мира из ничего. Общим местом является также то, что мир создан однажды и навсегда, и человек был создан последним, то есть никакого участия в процессе не принимал.
Если это так, роль писателя ограничивается отражением того, что он может увидеть и познать в этом огромном мире. Крохотная частица вселенной просто описывает то, что способны охватить её взгляд и воображение. Тут вспоминается притча о слепцах, ощупывающих слона, и японский сад камней «Рёандзи», в котором ни с одной точки невозможно увидеть их все.
Есть и другая точка зрения. Блаженный Августин, один из главных идеологов концепции создания мира из ничего, считал вместе с тем, что Бог ни на миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывное его творение. Если он «отнимет от вещей свою, так сказать, производительную силу, то их так же не будет, как не было прежде, чем они были созданы».
Или вот ещё, из его «Исповеди»:
«Не мать моя, не кормилицы мои питали меня сосцами своими, но Ты через них подавал мне, младенцу, пищу детскую, по закону природы, Тобою ей предначертанному, и по богатству щедрот Твоих, которыми Ты облагодетельствовал все твари по мере их потребностей».
Аналогичного мнения придерживаются авторитеты иудаизма. Одна из основополагающих идей хасидизма состоит в том, что Создатель творит мироздание ежесекундно. Адин Штейнзальц пишет: «Творение, таким образом, не должно пониматься как однократное действие, совершенное в Шесть дней Творения. Это продолжающийся процесс; Б-г все время творит мир».
А Ефим Свирский в своей книге «Перевоплощение» убедительно излагает простую мысль – так как всё есть Бог и Бог есть всё, и нет ничего, что бы им не являлось и что пребывает вне его, значит, мы его частички и живём в нём. Творец не только управляет миром, но и создал его сам из себя.
Такой же точки зрения придерживается, например, индийский философ Рамануджа – он утверждал, что всемогущий Бог сотворил многогранный мир из самого себя своим благоволением.
Идём дальше. Адин Штейнзальц в своей книге «Творящее слово» пишет:
«Мир создан из букв, и эти буквы сочетаются различными способами… <…> буквы не надо рассматривать только как часть алфавита; они суть элементарные силы, и в этом качестве они сочетаются разнообразными способами».
Но раз мы – частички Создателя, а он творит мир ежесекундно, то и мы, составляющие буквы в слова, а слова – в предложения, можем стать его со-творцами. Возможно, поэтому идеи писателей-фантастов часто воплощаются в жизнь.
Каждой волен выбирать тот вариант, который ему больше нравится.
~
О необыкновенных способностях
То, что кажется на первый взгляд неважным и второстепенным, нередко оказывается главным.
На эту тему есть хороший анекдот о том, как человек, после смерти оказавшийся перед Богом, спрашивает о том, каков же был смысл его жизни, и Бог напоминает ему о корпоративной вечеринке, на которой тот передал солонку своему коллеге.
Герой нашего повествования, Александр Смирнов, с определённого времени начал замечать за собой некоторые странности. Адепты йоги назвали бы их сиддхами, сверхъестественными способностями.
Правда, способности были довольно слабыми. Но были.
В возрасте тридцати лет он вдруг начал быстро считать в уме.
Потом осознал, что может абсолютно точно узнать вкус яблока, просто взглянув на него. Он словно проникал за миг в самую сущность райского плода. С арбузами, правда, такого не получалось.
А в один прекрасный день Смирнов получил полное и авторитетное подтверждение тому, о чём и сам уже некоторое время догадывался.
В тот день он со своей девушкой и друзьями ехал в Крым. Новый директор «Артека» пригласил их на несколько дней погостить у моря – в феврале лагерь пустовал. Хотя для одессита ехать в Крым – это ехать от моря к морю. Но уж больно симпатичной была компания.
Всё в тот раз удачно совпало – у Смирнова был как раз отдых между рейсами. Он давно ходил на балкерах старпомом. Старшим помощником капитана. И ждал уже полгода своего судна, чтобы пойти капитаном.
По пути они остановились в Николаеве на завтрак. Большое кафе было совершенно пустым, они были первыми.
– Если не сложно, принесите наши омлеты поскорее, – попросил Смирнов полусонную официантку.
– Разумеется. Кроме вас, как видите, никого нет.
– Это пока.
Через десять минут все соседние столики были заняты.
– Приходите к нам почаще. Лучше каждый день, – прощаясь, сказали девушка и пришедший с ней администратор.
Смирнов и сам замечал это уже несколько лет – стоило ему зайти куда-то поесть, как в кафе или ресторан начинал валом валить народ. С магазинами было не так, иногда случалось даже, что он оказывался в хвосте большой очереди, и за ним никто не занимал. А вот с общепитом осечек не было.
Скоро об этой его способности узнали друзья и родные. И летом, на дне рождения, будущий тесть после очередного тоста сказал – то ли в шутку, то ли всерьёз:
– Саша, а может, тебе ресторан открыть? Ну, или кофейню. Выбирай, что по душе. Я и деньгами помогу. А то что ты – всё в море да в море. Так ведь и жену будущую недолго потерять.
Ночная кукушка, она же будущая жена, перекуковала. Старпом Смирнов, пошатываясь, сошёл на берег. И через полгода уже сидел у дверей своей новой пиццерии.
В успехе никто не сомневался.
Он, собственно, и был, успех. Первый месяц. В Одессе все новые заведения успешны. А потом почти все закрываются.
Через полгода сбережения Смирнова закончились. Будущий тесть о себе больше не напоминал.
Пора было возвращаться в море. Да и пароход обещанный вроде как замаячил на горизонте.
Всё изменила случайная встреча с одноклассником.
– Саш, я слышал, ты того… Чудесами балуешься?
– Не без этого, – приободрился Смирнов.
– Я в Киеве новый ресторан открываю. Конкуренция там, сам знаешь, немаленькая. Поможешь? Обещаю небольшой фикс и хороший процент.
После недолгих раздумий Смирнов решил рискнуть. Возлюбленная поддержала.
Теперь он каждый вечер проводит в новом ресторане. Очередь на него расписана на месяцы вперёд.
Сиддхи – штука загадочная.
То, что кажется на первый взгляд неважным и второстепенным, нередко оказывается главным.
На эту тему есть хороший анекдот о том, как человек, после смерти оказавшийся перед Богом, спрашивает о том, каков же был смысл его жизни, и Бог напоминает ему о корпоративной вечеринке, на которой тот передал солонку своему коллеге.
Герой нашего повествования, Александр Смирнов, с определённого времени начал замечать за собой некоторые странности. Адепты йоги назвали бы их сиддхами, сверхъестественными способностями.
Правда, способности были довольно слабыми. Но были.
В возрасте тридцати лет он вдруг начал быстро считать в уме.
Потом осознал, что может абсолютно точно узнать вкус яблока, просто взглянув на него. Он словно проникал за миг в самую сущность райского плода. С арбузами, правда, такого не получалось.
А в один прекрасный день Смирнов получил полное и авторитетное подтверждение тому, о чём и сам уже некоторое время догадывался.
В тот день он со своей девушкой и друзьями ехал в Крым. Новый директор «Артека» пригласил их на несколько дней погостить у моря – в феврале лагерь пустовал. Хотя для одессита ехать в Крым – это ехать от моря к морю. Но уж больно симпатичной была компания.
Всё в тот раз удачно совпало – у Смирнова был как раз отдых между рейсами. Он давно ходил на балкерах старпомом. Старшим помощником капитана. И ждал уже полгода своего судна, чтобы пойти капитаном.
По пути они остановились в Николаеве на завтрак. Большое кафе было совершенно пустым, они были первыми.
– Если не сложно, принесите наши омлеты поскорее, – попросил Смирнов полусонную официантку.
– Разумеется. Кроме вас, как видите, никого нет.
– Это пока.
Через десять минут все соседние столики были заняты.
– Приходите к нам почаще. Лучше каждый день, – прощаясь, сказали девушка и пришедший с ней администратор.
Смирнов и сам замечал это уже несколько лет – стоило ему зайти куда-то поесть, как в кафе или ресторан начинал валом валить народ. С магазинами было не так, иногда случалось даже, что он оказывался в хвосте большой очереди, и за ним никто не занимал. А вот с общепитом осечек не было.
Скоро об этой его способности узнали друзья и родные. И летом, на дне рождения, будущий тесть после очередного тоста сказал – то ли в шутку, то ли всерьёз:
– Саша, а может, тебе ресторан открыть? Ну, или кофейню. Выбирай, что по душе. Я и деньгами помогу. А то что ты – всё в море да в море. Так ведь и жену будущую недолго потерять.
Ночная кукушка, она же будущая жена, перекуковала. Старпом Смирнов, пошатываясь, сошёл на берег. И через полгода уже сидел у дверей своей новой пиццерии.
В успехе никто не сомневался.
Он, собственно, и был, успех. Первый месяц. В Одессе все новые заведения успешны. А потом почти все закрываются.
Через полгода сбережения Смирнова закончились. Будущий тесть о себе больше не напоминал.
Пора было возвращаться в море. Да и пароход обещанный вроде как замаячил на горизонте.
Всё изменила случайная встреча с одноклассником.
– Саш, я слышал, ты того… Чудесами балуешься?
– Не без этого, – приободрился Смирнов.
– Я в Киеве новый ресторан открываю. Конкуренция там, сам знаешь, немаленькая. Поможешь? Обещаю небольшой фикс и хороший процент.
После недолгих раздумий Смирнов решил рискнуть. Возлюбленная поддержала.
Теперь он каждый вечер проводит в новом ресторане. Очередь на него расписана на месяцы вперёд.
Сиддхи – штука загадочная.
~
Sub Rosa
21 декабря 2014 года потомственный главный бухгалтер Константин Сергеевич Долгоруков пришёл с работы домой и сел за обеденный стол. Он был дома один, супруга с работы задерживалась, и, собственно говоря, он мог бы усесться на диван или даже в кресло, ведь стол был пустым. Тем не менее, он сел именно за него, повинуясь неясному ещё внутреннему порыву. Захотелось думать о чём-то прекрасном и даже записывать свои мысли. Константин Сергеевич попробовал было встать и пойти в соседнюю комнату за листом бумаги и карандашом, но внезапно это показалось совсем неважным.
Он закрыл глаза, и поток невнятных образов увлёк его. Ему словно начали показывать кино, и он был настолько этим фильмом очарован, что собственные мысли оказались вовсе и ненужными, куда-то отступили, никак не мешая той звенящей тишине, в которой он вдруг оказался.
Он находился то в центре, то сбоку огромного цветка, у которого вместо отмирающих старых вырастали всё новые и новые лепестки. Цветок был огромным, рос из воды и казался ему то лотосом, то розой. По сравнению с этим цветком сам он был просто крошечным, но это его никак не беспокоило. Иногда ему казалось, что сам он – один их этих лепестков. Иногда – что просто сторонний наблюдатель.
Вдруг Константин Сергеевич ощутил рядом с собой некое присутствие кого-то величественного и вместе с тем прекрасного. И эта величественность его тоже совсем не пугала.
Без всякого интеллектуального напряжения и сомнений он вдруг осознал, что это Бог. Осмыслить его он даже не пытался, но попытался почувствовать.
И ему это удалось.
Легко и естественно он понял, что два главных чувства, которые испытывает – это чувства любви и абсолютной защищённости. Ничего плохого больше никогда не могло произойти.
Слёзы сами собой покатились из его закрытых глаз. Он был абсолютно счастлив.
Так же, с закрытыми глазами, он услышал, как открылась дверь. Жена позвала его с порога, и, не дождавшись ответа, вошла в гостиную. Постояла возле него молча, с некоторой тревогой спросила, всё ли в порядке, погладила по голове и ушла на кухню.
Роза продолжала распускаться, но как-то поблекла – если вначале она была то красной, то золотой, то теперь стала то сдержанно бежевой, то голубоватой. Чувство божественного присутствия стало слабее. Ощутимо слабее. Появились мысли. Он вспомнил вдруг, что состояние полного отсутствия мыслей испытывал перед этим лишь однажды, сидя ранним утром на галечном пляже в Гурзуфе, когда волны, накатываясь и убегая, переворачивали камни. Мысль эта была ему сейчас совершенно не нужна, но отогнать её, как и последующие, он уже не мог.
Постепенно он начал приходить в себя. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Осторожно открыл глаза. Взглянув на часы, удивился – он просидел так почти полтора часа.
Того, что с ним случилось, жене он объяснить не смог. Не хватало слов, а те, что были, казались по сравнению с пережитым ничтожно пустыми.
Если бы он увлекался мистикой, глубже разбирался в философии или в истории религий, то непременно бы вспомнил, что уже в Упанишадах лотос, растущий в океане бесконечных рождений и смертей, представлял собой проявленную вселенную. Возможно, вспомнил бы, что Брахма, бог творения в индуизме, создатель вселенной, родился именно из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну.
Занимайся он йогой, наверняка бы вспомнил, что падмасана названа именно в честь лотоса, а каждая из семи чакр имеет форму лотоса разного цвета и с разным количеством лепестков. И, без сомнения, вспомнил бы и то, что в западной культуре место лотоса как центра мироздания и символа вечно обновляющегося мира занимает именно роза.
Может быть, он вспомнил бы средневековую легенду о чуде с розами и символ розенкрейцеров. Начал бы припоминать богов и святых, атрибутами которых является этот цветок.
И уж точно, стопроцентно решил бы прочесть наконец «Розу мира» Даниила Андреева.
Но все эти далёкие от прикладной, практической пользы и не имеющие экономической составляющей знания Константина Сергеевича никогда не интересовали. Были ему совершенно чужды. Поэтому никакие такие мысли и ассоциации в его голову не приходили.
Но, возможно, в тот момент они бы ему даже помешали.
21 декабря 2014 года потомственный главный бухгалтер Константин Сергеевич Долгоруков пришёл с работы домой и сел за обеденный стол. Он был дома один, супруга с работы задерживалась, и, собственно говоря, он мог бы усесться на диван или даже в кресло, ведь стол был пустым. Тем не менее, он сел именно за него, повинуясь неясному ещё внутреннему порыву. Захотелось думать о чём-то прекрасном и даже записывать свои мысли. Константин Сергеевич попробовал было встать и пойти в соседнюю комнату за листом бумаги и карандашом, но внезапно это показалось совсем неважным.
Он закрыл глаза, и поток невнятных образов увлёк его. Ему словно начали показывать кино, и он был настолько этим фильмом очарован, что собственные мысли оказались вовсе и ненужными, куда-то отступили, никак не мешая той звенящей тишине, в которой он вдруг оказался.
Он находился то в центре, то сбоку огромного цветка, у которого вместо отмирающих старых вырастали всё новые и новые лепестки. Цветок был огромным, рос из воды и казался ему то лотосом, то розой. По сравнению с этим цветком сам он был просто крошечным, но это его никак не беспокоило. Иногда ему казалось, что сам он – один их этих лепестков. Иногда – что просто сторонний наблюдатель.
Вдруг Константин Сергеевич ощутил рядом с собой некое присутствие кого-то величественного и вместе с тем прекрасного. И эта величественность его тоже совсем не пугала.
Без всякого интеллектуального напряжения и сомнений он вдруг осознал, что это Бог. Осмыслить его он даже не пытался, но попытался почувствовать.
И ему это удалось.
Легко и естественно он понял, что два главных чувства, которые испытывает – это чувства любви и абсолютной защищённости. Ничего плохого больше никогда не могло произойти.
Слёзы сами собой покатились из его закрытых глаз. Он был абсолютно счастлив.
Так же, с закрытыми глазами, он услышал, как открылась дверь. Жена позвала его с порога, и, не дождавшись ответа, вошла в гостиную. Постояла возле него молча, с некоторой тревогой спросила, всё ли в порядке, погладила по голове и ушла на кухню.
Роза продолжала распускаться, но как-то поблекла – если вначале она была то красной, то золотой, то теперь стала то сдержанно бежевой, то голубоватой. Чувство божественного присутствия стало слабее. Ощутимо слабее. Появились мысли. Он вспомнил вдруг, что состояние полного отсутствия мыслей испытывал перед этим лишь однажды, сидя ранним утром на галечном пляже в Гурзуфе, когда волны, накатываясь и убегая, переворачивали камни. Мысль эта была ему сейчас совершенно не нужна, но отогнать её, как и последующие, он уже не мог.
Постепенно он начал приходить в себя. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Осторожно открыл глаза. Взглянув на часы, удивился – он просидел так почти полтора часа.
Того, что с ним случилось, жене он объяснить не смог. Не хватало слов, а те, что были, казались по сравнению с пережитым ничтожно пустыми.
Если бы он увлекался мистикой, глубже разбирался в философии или в истории религий, то непременно бы вспомнил, что уже в Упанишадах лотос, растущий в океане бесконечных рождений и смертей, представлял собой проявленную вселенную. Возможно, вспомнил бы, что Брахма, бог творения в индуизме, создатель вселенной, родился именно из цветка лотоса, выросшего из пупка Вишну.
Занимайся он йогой, наверняка бы вспомнил, что падмасана названа именно в честь лотоса, а каждая из семи чакр имеет форму лотоса разного цвета и с разным количеством лепестков. И, без сомнения, вспомнил бы и то, что в западной культуре место лотоса как центра мироздания и символа вечно обновляющегося мира занимает именно роза.
Может быть, он вспомнил бы средневековую легенду о чуде с розами и символ розенкрейцеров. Начал бы припоминать богов и святых, атрибутами которых является этот цветок.
И уж точно, стопроцентно решил бы прочесть наконец «Розу мира» Даниила Андреева.
Но все эти далёкие от прикладной, практической пользы и не имеющие экономической составляющей знания Константина Сергеевича никогда не интересовали. Были ему совершенно чужды. Поэтому никакие такие мысли и ассоциации в его голову не приходили.
Но, возможно, в тот момент они бы ему даже помешали.
~
Два папы.
Теперь всё сошлось.
Удивительно, как я не заметил этого раньше.
Хорошо, что понял сейчас. Ведь всё так очевидно. Они были такими разными – и в то же время похожими. Родились в один и тот же день. Первый, художник, был старше на семнадцать лет, но пережил второго почти на шесть.
У обоих был повреждён левый глаз. Одному даже пришлось его удалить, и всю жизнь он носил искусственный. Не представляю себе этого. Не представляю, какие именно искусственные глаза делали сто лет назад. Наверняка они были тяжёлыми и твёрдыми. Потому и приходилось напрягать всё время мышцы лица. Потому недоброжелатели и называли его «кривомордым». А как с таким глазом спать? Нужно ли было класть его в стаканчик, в специальный раствор, как вставную челюсть? Вопросов много.
Плюс во всём этом был один – не пришлось идти на войну, погибать за родину. Говорят, он даже вынул на спор где-то на Дальнем Востоке свой глаз, чтобы доказать офицеру, что непригоден к военной службе. Доказал. Выжил – единственный из братьев. Войну и насилие всю жизнь ненавидел. Вспоминал с ужасом, как отец брал его с собой на охоту, и пришлось однажды добивать перочинным ножом зайца.
Другому повезло больше. Глазной дефект был врождённым, достался ему от матери, но внешне не был заметен, потому популярностью у женщин он пользовался гораздо большей, чем первый. Но на войну всё равно не взяли. А он хотел. Очень хотел. И поехал на неё, обрадовавшись кадровому набору Красного Креста. Отцовские уроки охоты и рыбной ловли воспринял с восторгом – и не мыслил свою жизнь без них. Как и без войны – после первой, спустя девятнадцать лет, принял участие во второй, а затем и в третьей.
Оба страстно любили море и не мыслили свою жизнь без яхт. Первого в это втянули сыновья, и он написал сотни холстов с палубы небольших семейных парусных лодок – только такие они могли себе позволить. Он даже завещал развеять свой прах с борта любимой яхты, что сыновья с внуками и сделали.
Яхта второго была моторной, он владел ею целых двадцать семь лет, и название её стало именем нарицательным. Правда, и тут он не мог обойтись без войны – охотился на своей моторке за немецкими подлодками. И ловил, бесконечно ловил рыбу – всех этих марлинов и акул. Чего первый терпеть не мог. Интересно, что в своём предпоследнем романе, полностью посвящённом жизни в море, он представил сам себя в образе художника.
Оба прожили большую часть жизни на островах. Оба любили Флориду. Первый устроил выставку на Кубе год спустя после того, как второй, живший как раз там, получил Нобелевскую премию. Второй, конечно, об этом не знал, да и вряд ли вообще догадывался о существовании первого. Первый же второго читал и ценил.
Рождение в один день. Повреждённый левый глаз. Страстная любовь к морю. Мало того – обоих во второй половине жизни называли «папами».
Они никогда не были друг с другом знакомы. Но с тех пор, как я прочёл в детстве биографию второго, я мечтал стать автором книги в этой существующей уже почти девяносто лет серии. И, только написав биографию первого, понял, как много в их судьбах удивительных совпадений.
Теперь всё сошлось.
Удивительно, как я не заметил этого раньше.
Хорошо, что понял сейчас. Ведь всё так очевидно. Они были такими разными – и в то же время похожими. Родились в один и тот же день. Первый, художник, был старше на семнадцать лет, но пережил второго почти на шесть.
У обоих был повреждён левый глаз. Одному даже пришлось его удалить, и всю жизнь он носил искусственный. Не представляю себе этого. Не представляю, какие именно искусственные глаза делали сто лет назад. Наверняка они были тяжёлыми и твёрдыми. Потому и приходилось напрягать всё время мышцы лица. Потому недоброжелатели и называли его «кривомордым». А как с таким глазом спать? Нужно ли было класть его в стаканчик, в специальный раствор, как вставную челюсть? Вопросов много.
Плюс во всём этом был один – не пришлось идти на войну, погибать за родину. Говорят, он даже вынул на спор где-то на Дальнем Востоке свой глаз, чтобы доказать офицеру, что непригоден к военной службе. Доказал. Выжил – единственный из братьев. Войну и насилие всю жизнь ненавидел. Вспоминал с ужасом, как отец брал его с собой на охоту, и пришлось однажды добивать перочинным ножом зайца.
Другому повезло больше. Глазной дефект был врождённым, достался ему от матери, но внешне не был заметен, потому популярностью у женщин он пользовался гораздо большей, чем первый. Но на войну всё равно не взяли. А он хотел. Очень хотел. И поехал на неё, обрадовавшись кадровому набору Красного Креста. Отцовские уроки охоты и рыбной ловли воспринял с восторгом – и не мыслил свою жизнь без них. Как и без войны – после первой, спустя девятнадцать лет, принял участие во второй, а затем и в третьей.
Оба страстно любили море и не мыслили свою жизнь без яхт. Первого в это втянули сыновья, и он написал сотни холстов с палубы небольших семейных парусных лодок – только такие они могли себе позволить. Он даже завещал развеять свой прах с борта любимой яхты, что сыновья с внуками и сделали.
Яхта второго была моторной, он владел ею целых двадцать семь лет, и название её стало именем нарицательным. Правда, и тут он не мог обойтись без войны – охотился на своей моторке за немецкими подлодками. И ловил, бесконечно ловил рыбу – всех этих марлинов и акул. Чего первый терпеть не мог. Интересно, что в своём предпоследнем романе, полностью посвящённом жизни в море, он представил сам себя в образе художника.
Оба прожили большую часть жизни на островах. Оба любили Флориду. Первый устроил выставку на Кубе год спустя после того, как второй, живший как раз там, получил Нобелевскую премию. Второй, конечно, об этом не знал, да и вряд ли вообще догадывался о существовании первого. Первый же второго читал и ценил.
Рождение в один день. Повреждённый левый глаз. Страстная любовь к морю. Мало того – обоих во второй половине жизни называли «папами».
Они никогда не были друг с другом знакомы. Но с тех пор, как я прочёл в детстве биографию второго, я мечтал стать автором книги в этой существующей уже почти девяносто лет серии. И, только написав биографию первого, понял, как много в их судьбах удивительных совпадений.
~
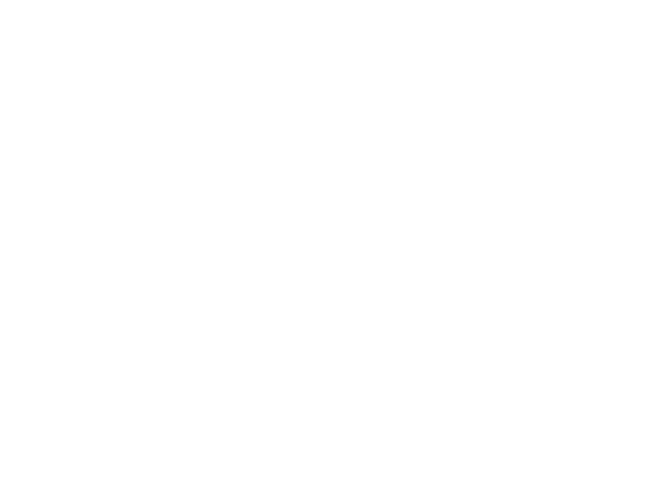
Олег Аркадьевич
Ему было четырнадцать, когда он записал в своём дневнике: «Хочу стать поэтом. Мой идеал — Лермонтов». В том же году были написаны первые, неуклюжие стихотворения, которые он, стесняясь, читал на занятиях поэтической студии во дворце пионеров. Окна студии выходили на море и Приморский бульвар, носивший тогда никому ничего не говорившее имя Фельдмана.
Одесские пейзажи не могли не найти отклик в тонко чувствующей душе. Вскоре он поступил в художественное училище — чтобы походить на Лермонтова окончательно.
В семнадцать он открыл в себе способности предсказывать будущее по почерку. Это казалось удивительной забавой, пока знакомая девушка не утонула в море точно тогда, когда он ей это предсказал.
После этого он дал себе слово заглядывать лишь в своё собственное будущее. Своё и ближайших друзей. Получалось с трудом — желающих приоткрыть завесу тайны было множество.
В двадцать он записал в дневнике: «Повторяя чужой почерк, я проникаю в самую гущу мыслей человека. Я вижу мир его глазами, испытываю его чувства. Возможно, если я получу доступ к рукописям Лермонтова, я смогу разгадать секрет его таланта. Стать великим поэтом».
В двадцать два он ушёл на фронт. Воевал в кавалерийских войсках, был ранен, контужен. Лечился в госпитале в Пятигорске. В 1944-м писал оттуда сестре Татьяне:
«Поэзия. Она убила во мне много хорошего. Вообще поэзия — это искусство, ведущее к пропасти душевной, а нередко и к смерти.
Лермонтов. Я был в Пятигорске. Ну и местечко. Я в долгу перед пятигорскими улицами, цветниками, горами. Целую и невредимую встретить после резни мечтает Олег сестру…».
Тогда же он начал писать поэму «Лермонтов в Пятигорске». Она давалась с трудом. В 1946-м, вернувшись в Одессу, записал в дневнике: «Хочу бросить всё и уехать в Москву, Ленинград, засесть в библиотеках над рукописями Лермонтова и разгадать, наконец, тайну гения».
Художник на время победил в нём поэта. Вместо столиц он уехал во Львов, учиться в институте декоративно-прикладного искусства. Там он чудом раздобыл полное собрание сочинений Лермонтова под редакцией Эйхенбаума. В нём было и факсимиле рукописей поэта.
Справиться с искушением было невозможно.
В 1948-м он записал в дневнике:
«Внутренняя борьба изматывает меня. Хочу стать великим, но не хочу терять себя. Вторым Лермонтовым стать невозможно. Попробую стать собой».
Позже, вернувшись в Одессу, он выпишет тринадцать цитат Оскара Уайльда и прикрепит их на стену. Первой была знаменитая: «Будь собой. Прочие роли уже заняты».
Он устроится на работу в Музей Западного и Восточного искусства и каждую свободную минуту будет рисовать. Рисовать и писать стихи. Больше всего он будет любить работать ночами. Даже выработает специальную систему, привязанную к лунному календарю — именно в эти ночи через него проходил космический поток. Четвёртое число, седьмое, одиннадцатое, четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое…
Спустя некоторое время друзья и коллеги стали называть его «великим». Это не было шуткой, не было иронией, он действительно был таким. И не только благодаря блестящей эрудиции, ораторскому дару, таланту рисовальщика. Он опередил своё время, стал первым одесским концептуалистом и самым «не советским» человеком в городе. Железный занавес не мог ему помешать — он чувствовал все новейшие тенденции в искусстве.
В день своего пятидесятилетия, 15 июля 1969 года, он предсказал год своей смерти. А спустя несколько дней записал в дневнике:
«Я хотел стать собой. Наверное, стал. Но кто это — я? И что во мне — собственно моего? А что — великого князя Олега Константиновича Романова, реинкарнацией которого, по словам матери, я являюсь? Мать никогда не лгала, а Романов тоже писал неважнецкие стихи…
Может быть, в нас нет вообще ничего своего, и мы — просто сгустки энергии воспоминаний? То, что кажется моим, это коллаж из того, что я — все мои «я» — видели, слышали, читали в этой и прошлых жизнях? И Лермонтов — тоже часть всех нас?»
Спустя десять лет он написал:
«Стать самим собой невозможно. Невозможно и стать кем-то другим. Не нужно искать себя, нужно просто работать, творить. В творчестве лжи нет.
Искусство есть выражение зашифрованной формулы духа. Я учу улавливать пульсацию искусства во всём».
День его похорон был пасмурным и дождливым. Друзья и родные прятались под зонтами. За минуту до того, как гроб закрыли, на ветку прямо над могилой сел голубь, а пробившийся внезапно сквозь тучи солнечный луч осветил его лицо.
Ему было четырнадцать, когда он записал в своём дневнике: «Хочу стать поэтом. Мой идеал — Лермонтов». В том же году были написаны первые, неуклюжие стихотворения, которые он, стесняясь, читал на занятиях поэтической студии во дворце пионеров. Окна студии выходили на море и Приморский бульвар, носивший тогда никому ничего не говорившее имя Фельдмана.
Одесские пейзажи не могли не найти отклик в тонко чувствующей душе. Вскоре он поступил в художественное училище — чтобы походить на Лермонтова окончательно.
В семнадцать он открыл в себе способности предсказывать будущее по почерку. Это казалось удивительной забавой, пока знакомая девушка не утонула в море точно тогда, когда он ей это предсказал.
После этого он дал себе слово заглядывать лишь в своё собственное будущее. Своё и ближайших друзей. Получалось с трудом — желающих приоткрыть завесу тайны было множество.
В двадцать он записал в дневнике: «Повторяя чужой почерк, я проникаю в самую гущу мыслей человека. Я вижу мир его глазами, испытываю его чувства. Возможно, если я получу доступ к рукописям Лермонтова, я смогу разгадать секрет его таланта. Стать великим поэтом».
В двадцать два он ушёл на фронт. Воевал в кавалерийских войсках, был ранен, контужен. Лечился в госпитале в Пятигорске. В 1944-м писал оттуда сестре Татьяне:
«Поэзия. Она убила во мне много хорошего. Вообще поэзия — это искусство, ведущее к пропасти душевной, а нередко и к смерти.
Лермонтов. Я был в Пятигорске. Ну и местечко. Я в долгу перед пятигорскими улицами, цветниками, горами. Целую и невредимую встретить после резни мечтает Олег сестру…».
Тогда же он начал писать поэму «Лермонтов в Пятигорске». Она давалась с трудом. В 1946-м, вернувшись в Одессу, записал в дневнике: «Хочу бросить всё и уехать в Москву, Ленинград, засесть в библиотеках над рукописями Лермонтова и разгадать, наконец, тайну гения».
Художник на время победил в нём поэта. Вместо столиц он уехал во Львов, учиться в институте декоративно-прикладного искусства. Там он чудом раздобыл полное собрание сочинений Лермонтова под редакцией Эйхенбаума. В нём было и факсимиле рукописей поэта.
Справиться с искушением было невозможно.
В 1948-м он записал в дневнике:
«Внутренняя борьба изматывает меня. Хочу стать великим, но не хочу терять себя. Вторым Лермонтовым стать невозможно. Попробую стать собой».
Позже, вернувшись в Одессу, он выпишет тринадцать цитат Оскара Уайльда и прикрепит их на стену. Первой была знаменитая: «Будь собой. Прочие роли уже заняты».
Он устроится на работу в Музей Западного и Восточного искусства и каждую свободную минуту будет рисовать. Рисовать и писать стихи. Больше всего он будет любить работать ночами. Даже выработает специальную систему, привязанную к лунному календарю — именно в эти ночи через него проходил космический поток. Четвёртое число, седьмое, одиннадцатое, четырнадцатое, семнадцатое, двадцать первое…
Спустя некоторое время друзья и коллеги стали называть его «великим». Это не было шуткой, не было иронией, он действительно был таким. И не только благодаря блестящей эрудиции, ораторскому дару, таланту рисовальщика. Он опередил своё время, стал первым одесским концептуалистом и самым «не советским» человеком в городе. Железный занавес не мог ему помешать — он чувствовал все новейшие тенденции в искусстве.
В день своего пятидесятилетия, 15 июля 1969 года, он предсказал год своей смерти. А спустя несколько дней записал в дневнике:
«Я хотел стать собой. Наверное, стал. Но кто это — я? И что во мне — собственно моего? А что — великого князя Олега Константиновича Романова, реинкарнацией которого, по словам матери, я являюсь? Мать никогда не лгала, а Романов тоже писал неважнецкие стихи…
Может быть, в нас нет вообще ничего своего, и мы — просто сгустки энергии воспоминаний? То, что кажется моим, это коллаж из того, что я — все мои «я» — видели, слышали, читали в этой и прошлых жизнях? И Лермонтов — тоже часть всех нас?»
Спустя десять лет он написал:
«Стать самим собой невозможно. Невозможно и стать кем-то другим. Не нужно искать себя, нужно просто работать, творить. В творчестве лжи нет.
Искусство есть выражение зашифрованной формулы духа. Я учу улавливать пульсацию искусства во всём».
День его похорон был пасмурным и дождливым. Друзья и родные прятались под зонтами. За минуту до того, как гроб закрыли, на ветку прямо над могилой сел голубь, а пробившийся внезапно сквозь тучи солнечный луч осветил его лицо.
~
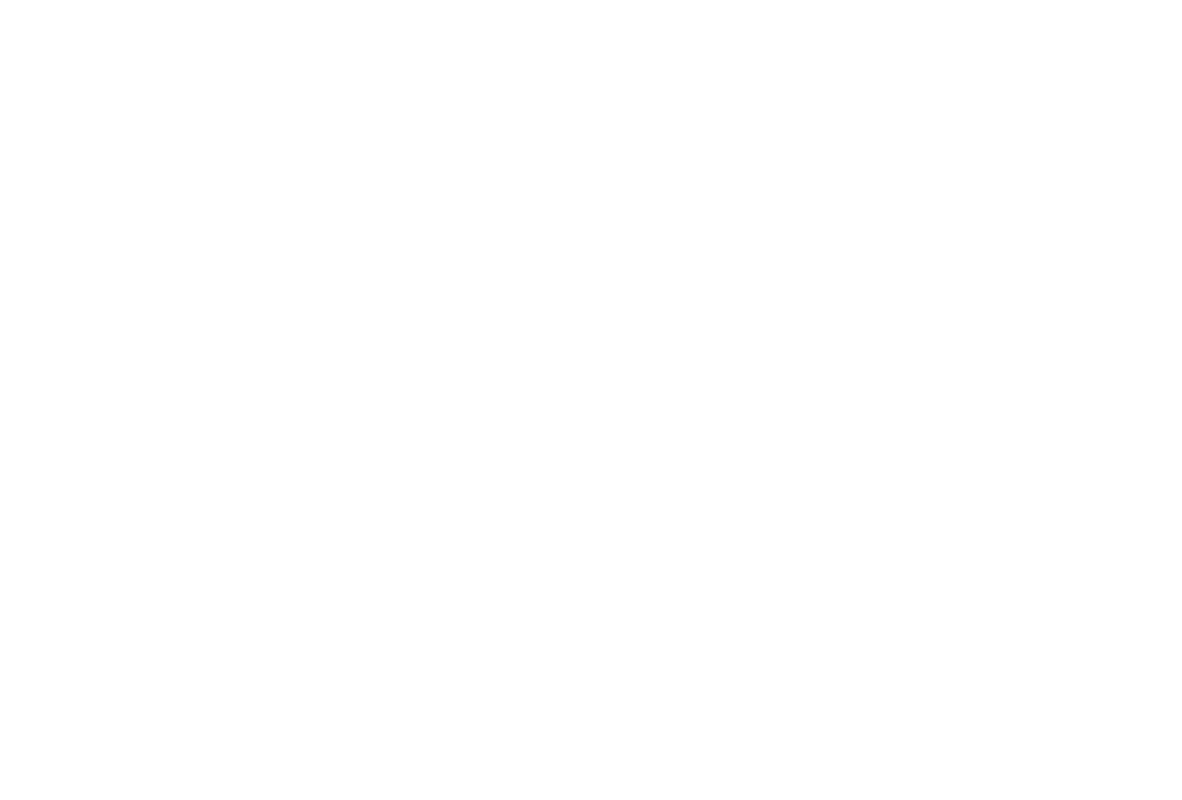 | 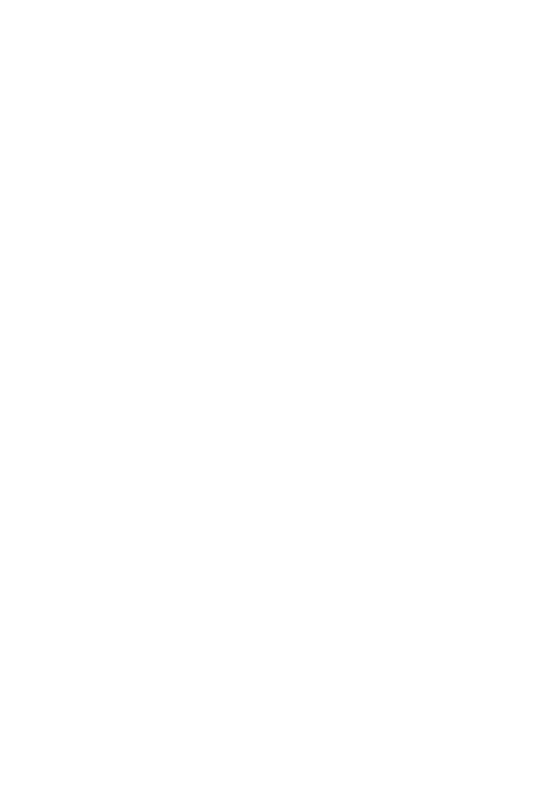 | 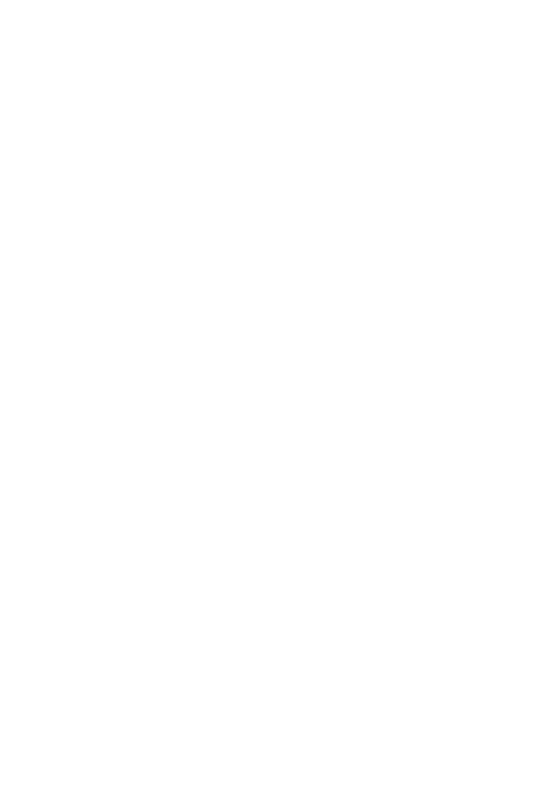 |
Реваз Леванович
Резо Габриадзе часто приезжал в Одессу и подолгу сиживал в нашем Всемирном клубе одесситов, проводя часы за беседой с прекрасными Менделеевичем и Аркадием. В силу своей глупости я не придавал этому значения, воображая, что мои казавшиеся неотложными дела важнее общения со спокойным, улыбчивым пожилым мужчиной, масштаба личности которого я тогда не понимал. И даже то, что у меня в кладовке лежали разрисованные им чемодан и «задник» для нашего спектакля «Смехач на крыше», не меняло ситуации.
Однажды Аркадий попросил меня перевезти Реваза Левановича с чемоданом из знаменитой «Лондонской» в гораздо более скромную гостиницу «Чёрное море». Главным её преимуществом, тем не менее, была близость к дому самого Аркаши и его прекрасной Нины, которые каждый вечер принимали Резо у себя. У меня в то утро был свободный час, и я согласился.
В номере у Резо был форменный кавардак. Я с тоской оглядел разбросанную по кровати, креслам и столу одежду и книги и понял, что за час не управлюсь.
— Помочь вам собраться?
— Да, пожалуйста, дорогой, — ответил он с улыбкой. — Эти вещи выпрыгивают из чемодана, как только его откроешь, и потом начинают жить свой жизнью.
Реваз Леванович говорил неторопливо, двигался неспешно, и через несколько минут я вдруг понял, что все мои планы — форменная чепуха, а главное — быть рядом с ним как можно дольше и слушать его как можно внимательнее.
Я отменил тогда все свои дела и два дня, с утра и до вечера, расспрашивал его обо всём на свете, начиная от смысла жизни и заканчивая возникновением Вселенной. Мы часами сидели в кафе, а когда уставали, ездили по городу, который он знал не хуже Тбилиси. Он чётко говорил, какие дома хочет увидеть, и удивлял меня своим восхищением старыми металлическими решётками на окнах.
— Посмотрите на это солнышко, — говорил он. — Вам это кажется банальным, но безымянный мастер старался украсить жизнь.
В следующий его приезд в Одессу друзья поселили его в частной квартире на Екатерининской. Он чувствовал себя неважно, редко выходил из дому, и я принёс ему бумагу, краски и карандаши, чтобы он не скучал.
На следующий день он попросил меня позировать. Портрет вышел очень пёстрым, и, честно говоря, узнать меня на нём непросто. Единственная, пожалуй, точно угадываемая деталь — это хохолок, вихор на голове, который всегда торчит, когда меня коротко постригут. Реваз Леванович рисовал фломастером, пером, но больше всего — пальцем, обмакнутым в акварельные краски. Глаза мои получились зелёными, грустными, с уголками, опущенными вниз. Менделеевич с Аркашей, первыми увидевшие портрет, тут же позвонили мне и сказали, что настоящий мастер увидел в моих глазах то, чего не вижу я сам, а именно всю скорбь еврейского народа. Я заметил только, что еврейской скорби во мне — ровно на четверть, а остальные три четверти — русская, украинская и даже польская скорбь.
Кроме Реваза Левановича, еврейскую скорбь в моих глазах с тех пор никто так и не заметил. То был, наверное, последний его приезд в Одессу. Мы виделись спустя много лет в Тбилиси, но времени поговорить по душам уже не было.
А я часто вспоминаю самый первый наш разговор в пиццерии на Большой Арнаутской.
— Как прекрасно, что этот молодой человек выучился готовить пиццу в печи, — сказал он, глядя на споро работавшего юношу. — Главное в любой стране — это ремесленники. Не страшно, если за границу уедет какой-нибудь писатель или художник. Страшно, если уедет главный бухгалтер лимонадного завода.
Уезжать или оставаться — вопрос для одесситов всегда актуальный.
Спросил его об этом и я.
— Зачем уезжать из такого города? Просто живите тут, и вы познакомитесь со всеми интересными людьми современности.
Я его не послушал.
Резо Габриадзе часто приезжал в Одессу и подолгу сиживал в нашем Всемирном клубе одесситов, проводя часы за беседой с прекрасными Менделеевичем и Аркадием. В силу своей глупости я не придавал этому значения, воображая, что мои казавшиеся неотложными дела важнее общения со спокойным, улыбчивым пожилым мужчиной, масштаба личности которого я тогда не понимал. И даже то, что у меня в кладовке лежали разрисованные им чемодан и «задник» для нашего спектакля «Смехач на крыше», не меняло ситуации.
Однажды Аркадий попросил меня перевезти Реваза Левановича с чемоданом из знаменитой «Лондонской» в гораздо более скромную гостиницу «Чёрное море». Главным её преимуществом, тем не менее, была близость к дому самого Аркаши и его прекрасной Нины, которые каждый вечер принимали Резо у себя. У меня в то утро был свободный час, и я согласился.
В номере у Резо был форменный кавардак. Я с тоской оглядел разбросанную по кровати, креслам и столу одежду и книги и понял, что за час не управлюсь.
— Помочь вам собраться?
— Да, пожалуйста, дорогой, — ответил он с улыбкой. — Эти вещи выпрыгивают из чемодана, как только его откроешь, и потом начинают жить свой жизнью.
Реваз Леванович говорил неторопливо, двигался неспешно, и через несколько минут я вдруг понял, что все мои планы — форменная чепуха, а главное — быть рядом с ним как можно дольше и слушать его как можно внимательнее.
Я отменил тогда все свои дела и два дня, с утра и до вечера, расспрашивал его обо всём на свете, начиная от смысла жизни и заканчивая возникновением Вселенной. Мы часами сидели в кафе, а когда уставали, ездили по городу, который он знал не хуже Тбилиси. Он чётко говорил, какие дома хочет увидеть, и удивлял меня своим восхищением старыми металлическими решётками на окнах.
— Посмотрите на это солнышко, — говорил он. — Вам это кажется банальным, но безымянный мастер старался украсить жизнь.
В следующий его приезд в Одессу друзья поселили его в частной квартире на Екатерининской. Он чувствовал себя неважно, редко выходил из дому, и я принёс ему бумагу, краски и карандаши, чтобы он не скучал.
На следующий день он попросил меня позировать. Портрет вышел очень пёстрым, и, честно говоря, узнать меня на нём непросто. Единственная, пожалуй, точно угадываемая деталь — это хохолок, вихор на голове, который всегда торчит, когда меня коротко постригут. Реваз Леванович рисовал фломастером, пером, но больше всего — пальцем, обмакнутым в акварельные краски. Глаза мои получились зелёными, грустными, с уголками, опущенными вниз. Менделеевич с Аркашей, первыми увидевшие портрет, тут же позвонили мне и сказали, что настоящий мастер увидел в моих глазах то, чего не вижу я сам, а именно всю скорбь еврейского народа. Я заметил только, что еврейской скорби во мне — ровно на четверть, а остальные три четверти — русская, украинская и даже польская скорбь.
Кроме Реваза Левановича, еврейскую скорбь в моих глазах с тех пор никто так и не заметил. То был, наверное, последний его приезд в Одессу. Мы виделись спустя много лет в Тбилиси, но времени поговорить по душам уже не было.
А я часто вспоминаю самый первый наш разговор в пиццерии на Большой Арнаутской.
— Как прекрасно, что этот молодой человек выучился готовить пиццу в печи, — сказал он, глядя на споро работавшего юношу. — Главное в любой стране — это ремесленники. Не страшно, если за границу уедет какой-нибудь писатель или художник. Страшно, если уедет главный бухгалтер лимонадного завода.
Уезжать или оставаться — вопрос для одесситов всегда актуальный.
Спросил его об этом и я.
— Зачем уезжать из такого города? Просто живите тут, и вы познакомитесь со всеми интересными людьми современности.
Я его не послушал.
~
Габриэль Габриэлевич
У него была жена и двое маленьких сыновей. Он работал пиар-менеджером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно было отказаться от работы. Он заложил машину и отдал деньги Мерседес. Каждый день она так или иначе добывала ему бумагу, сигареты, всё, что необходимо для работы. Когда книга была кончена, оказалось, что они должны мяснику 5000 песо — огромные деньги. По округе пошел слух, что он пишет очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Чтобы послать текст издателю, необходимо было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда он заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она сказала: «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим».
И роман оказался плохим.
У него была жена и двое маленьких сыновей. Он работал пиар-менеджером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно было отказаться от работы. Он заложил машину и отдал деньги Мерседес. Каждый день она так или иначе добывала ему бумагу, сигареты, всё, что необходимо для работы. Когда книга была кончена, оказалось, что они должны мяснику 5000 песо — огромные деньги. По округе пошел слух, что он пишет очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Чтобы послать текст издателю, необходимо было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда он заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она сказала: «Не хватало только, чтобы роман оказался плохим».
И роман оказался плохим.
~
Часть вторая
Никто, конечно, мне не верит. Все думают, что это – ловко сделанная фальшивка. Никого не убеждает то, что я жил с ним в одном дворе. Никто не верит в то, что мы могли с ним подружиться. Действительно, мне было одиннадцать, а ему почти пятьдесят. Но подружиться в таком случае даже легче. Хотя мы были очень разными. Мне страшно нравились все эти вооружённые солдаты, выстрелы по вечерам, валяющиеся на улицах гильзы. Красные флаги. Его всё это ужасало. Наверное, потому он и уехал. Я долго не знал, куда. Потом уже узнал о Париже.
Больше я никогда его не видел и писем от него, разумеется, не получал. Да и как вы представляете себе письмо из Парижа в почтовом ящике коммунальной квартиры на Баранова, 27?
Перед отъездом он принёс мне рукопись, завёрнутую в плотную коричневую бумагу. Принёс и попросил надёжно спрятать, лучше – закопать.
– Ты мальчишка, тебя никто не заподозрит. Запомни только место. Я обязательно вернусь за ней. Не раскрывай её и не читай. Обещаешь?
Я пообещал.
Он крепко пожал мне руку.
Я сделал всё, как он просил.
Много лет спустя я узнал о том, что он умер.
Рукопись сейчас у меня дома. Теперь, когда можно всё, я пытаюсь её опубликовать. Но издатели лишь смеются, увидев заголовок:
«Иван Бунин. Окаянные дни. Часть вторая».
Никто, конечно, мне не верит. Все думают, что это – ловко сделанная фальшивка. Никого не убеждает то, что я жил с ним в одном дворе. Никто не верит в то, что мы могли с ним подружиться. Действительно, мне было одиннадцать, а ему почти пятьдесят. Но подружиться в таком случае даже легче. Хотя мы были очень разными. Мне страшно нравились все эти вооружённые солдаты, выстрелы по вечерам, валяющиеся на улицах гильзы. Красные флаги. Его всё это ужасало. Наверное, потому он и уехал. Я долго не знал, куда. Потом уже узнал о Париже.
Больше я никогда его не видел и писем от него, разумеется, не получал. Да и как вы представляете себе письмо из Парижа в почтовом ящике коммунальной квартиры на Баранова, 27?
Перед отъездом он принёс мне рукопись, завёрнутую в плотную коричневую бумагу. Принёс и попросил надёжно спрятать, лучше – закопать.
– Ты мальчишка, тебя никто не заподозрит. Запомни только место. Я обязательно вернусь за ней. Не раскрывай её и не читай. Обещаешь?
Я пообещал.
Он крепко пожал мне руку.
Я сделал всё, как он просил.
Много лет спустя я узнал о том, что он умер.
Рукопись сейчас у меня дома. Теперь, когда можно всё, я пытаюсь её опубликовать. Но издатели лишь смеются, увидев заголовок:
«Иван Бунин. Окаянные дни. Часть вторая».
~
Борхес и Он (литературный Ready made).
Я написал о Нём. Я – это, как и Вы, вольный гражданин Мира. Он – Единственный Великий Поэт, крыловейный Мудрец. Футурист-Песнебоец. Живой Памятник на глыбе Своего Творчества.
Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может уже неосознанно, замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки.
Я и Он. Два лица, два существа, два друга, две дороги рядом, два бога, два дьявола. Я – это когда вкусно и плотно обедаю, пью вино, чёрный кофе, курю дорогую сигару. Он – это когда в полетах птиц, в движеньи ветра, в изгибе радуги, в травоцветеньи или в ритме прибойных волн моря – видит мудрый смысл песни: И где-нибудь в шатре на Каме Я буду сам варить картошку, и, засыпая с рыбаками, вертеть махорочную ножку. Он – всегда в творческом созерцаньи. Он – бесплотен и лёгок, как ангел. Я же – весь в суете человеческих дел и непрестанных событий. Я всегда – со всеми в куче муравейника. Он – одинок, высок и оснежен вечностью – будто вершина Казбека. Я коммерсант или кавалер, пассажир или рабочий, квартирант или слежу за чисткой щиблет и зубов. Я – главное – издатель Его сочинений, антрепренер Его лекций – гастролей, устроитель Его выступлений – триумфов.
О Борхесе я получаю известия по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналий. Мне нравятся географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актёра.
Он – трепетно – гордо любит Книгу, а я занимаюсь распространеньем. Он – любит подарить Книгу Свою, а я предпочитаю продать и получить деньги. Он – сгорая в увлеченьи – читает лекцию и следит за красотою стройности речи, а я думаю о кассе. Его часто приглашают выступить с речью или со стихами, и Он никогда не подумает о гонораре – меня же гонорар интересует нервно, и я жду высокой заработной платы, как этого ждет каждый мастер у своего станка. Ведь я знаю – Ему необходима вольная, широкая, многогранная, яркая, феерическая жизнь. Жизнь – Поэта Жизни. Жизнь – путешествующего бога с подарками. Жизнь – открывателя апельсиновых рощ.
Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги, а эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое- какие страницы, но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность – даже того, другого, – а достояние речи и литературной традиции. В конечном счёте мне предназначен уход из жизни, раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему всё, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям.
Я строго автономен в жизненной борьбе, как Он в своем Творчестве. Часто мы не мешаем друг другу, а иногда расходимся во взглядах и начинаем состязаться в истинности положенья. Побеждает тот из двух, кто в данный момент окрасится ярче, острее, звучальнее.
Спиноза мыслил, что сущее хочет всегда оставаться самим собою: камень хочет остаться камнем, тигр – тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой (если вообще я был кем-то), но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться – от мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности, но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя – сплошное бегство, и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого.
Я много работаю и очень устаю, но никогда никому не жалуюсь: ведь знаю что всем, по существу наплевать и на меня, и на Него (с особым удовольствием), и на все божественное Искусство. Тупой эгоизм близких, друзей, врагов – одинаково преимуществует. И никому нет дела до меня и Поэта. И если завтра сгинет Поэт с голоду или от гнета нужды – никто может не узнать об этой великой печали: потому что никто не заботился о Нём.
Не знаю, кто из нас обоих пишет эту страницу.
Я написал о Нём. Я – это, как и Вы, вольный гражданин Мира. Он – Единственный Великий Поэт, крыловейный Мудрец. Футурист-Песнебоец. Живой Памятник на глыбе Своего Творчества.
Это он, Борхес, причастен к суетной жизни. Я же тихо брожу по Буэнос-Айресу и, быть может уже неосознанно, замедляю шаги перед аркой портала или вязью чугунной решетки.
Я и Он. Два лица, два существа, два друга, две дороги рядом, два бога, два дьявола. Я – это когда вкусно и плотно обедаю, пью вино, чёрный кофе, курю дорогую сигару. Он – это когда в полетах птиц, в движеньи ветра, в изгибе радуги, в травоцветеньи или в ритме прибойных волн моря – видит мудрый смысл песни: И где-нибудь в шатре на Каме Я буду сам варить картошку, и, засыпая с рыбаками, вертеть махорочную ножку. Он – всегда в творческом созерцаньи. Он – бесплотен и лёгок, как ангел. Я же – весь в суете человеческих дел и непрестанных событий. Я всегда – со всеми в куче муравейника. Он – одинок, высок и оснежен вечностью – будто вершина Казбека. Я коммерсант или кавалер, пассажир или рабочий, квартирант или слежу за чисткой щиблет и зубов. Я – главное – издатель Его сочинений, антрепренер Его лекций – гастролей, устроитель Его выступлений – триумфов.
О Борхесе я получаю известия по почте и вижу его фамилию то в списке на замещение профессорской должности, то в словаре персоналий. Мне нравятся географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, песочные часы, вкус кофе и проза Стивенсона. Другой имеет те же пристрастия, но он их слегка афиширует и тем превращает в аксессуары актёра.
Он – трепетно – гордо любит Книгу, а я занимаюсь распространеньем. Он – любит подарить Книгу Свою, а я предпочитаю продать и получить деньги. Он – сгорая в увлеченьи – читает лекцию и следит за красотою стройности речи, а я думаю о кассе. Его часто приглашают выступить с речью или со стихами, и Он никогда не подумает о гонораре – меня же гонорар интересует нервно, и я жду высокой заработной платы, как этого ждет каждый мастер у своего станка. Ведь я знаю – Ему необходима вольная, широкая, многогранная, яркая, феерическая жизнь. Жизнь – Поэта Жизни. Жизнь – путешествующего бога с подарками. Жизнь – открывателя апельсиновых рощ.
Неверно думать, будто мы питаем вражду друг к другу. Я живу, я стараюсь жить, чтобы Борхес мог сочинять свои книги, а эти книги меня оправдывают. Без ложной скромности можно сказать, что ему удались кое- какие страницы, но мне от этого мало проку, ибо удача, я думаю, уже не личная собственность – даже того, другого, – а достояние речи и литературной традиции. В конечном счёте мне предназначен уход из жизни, раз и навеки, и лишь на одно мгновение я смогу себя пережить в другом. Мало-помалу я отдаю ему всё, хотя вижу в нем пагубную наклонность к вымыслам и преувеличениям.
Я строго автономен в жизненной борьбе, как Он в своем Творчестве. Часто мы не мешаем друг другу, а иногда расходимся во взглядах и начинаем состязаться в истинности положенья. Побеждает тот из двух, кто в данный момент окрасится ярче, острее, звучальнее.
Спиноза мыслил, что сущее хочет всегда оставаться самим собою: камень хочет остаться камнем, тигр – тигром. Мне же надо быть Борхесом, а не собой (если вообще я был кем-то), но в его книгах я теперь себя вижу реже, чем во многих других или в искусном звучании гитары. Я и раньше пытался с ним распрощаться – от мифов о наших предместьях перешел к играм на темы времени и бесконечности, но эти игры тешат нынешнего Борхеса, и мне пора придумывать новые штуки. А это значит, что жизнь моя – сплошное бегство, и я утрачиваю все и обращаю все в забвение или в того, другого.
Я много работаю и очень устаю, но никогда никому не жалуюсь: ведь знаю что всем, по существу наплевать и на меня, и на Него (с особым удовольствием), и на все божественное Искусство. Тупой эгоизм близких, друзей, врагов – одинаково преимуществует. И никому нет дела до меня и Поэта. И если завтра сгинет Поэт с голоду или от гнета нужды – никто может не узнать об этой великой печали: потому что никто не заботился о Нём.
Не знаю, кто из нас обоих пишет эту страницу.
~
Человек с безупречным вкусом
Словно не замечая усиливавшегося с каждой минутой дождя, пара пожилых людей молча стояла у дальней стены старого кладбища, пристально вглядываясь в полустёртые буквы надгробия. На фоне соседних оно выглядело необычно. Простой белый крест с отсутствием скульптурных украшений более естественно смотрелся бы на любом российском кладбище; здесь же, на городском кладбище Карловых Вар, где чуть ли не каждое надгробие было маленьким скульптурным шедевром, он выглядел аскетично.
Мужчина, когда-то высокий и крупный, а теперь ссутулившийся, так, как обычно сутулятся очень пожилые люди, снял с головы бейсболку, и, взяв её обеими руками, прижал к промокшему под дождём бежевому плащу. Бейсболка тоже смотрелась в этих местах чужеродно – Карловы Вары от Нью-Йорка всё-таки отделяют тысячи километров.
- Папа, ты простудишься, – участливо сказала его спутница. Её светлый плащ тоже промок, как и причудливая чёрно-белая шляпка, служившая скорее украшением, недели защитой от непогоды.
Державшийся на почтительной дистанции позади них молодой человек поддержал её:
- Давид Давидович, Мария Никифоровна права. Вы не для того два месяца лечились, чтобы под конец заболеть. Всё же ноябрь на дворе.
Молодой человек с трудом подбирал русские слова, произнося их с отчётливо выраженным балканским акцентом.
Давид Бурлюк молча надел бейсболку и с явной неохотой отошёл от могилы. Сделав несколько шагов, он внезапно развернулся и поклонился.
За воротами кладбища их ждал автомобиль, новая красная Шкода-Спартак.
- Спасибо вам, Илья. До сих пор не могу поверить, что простые рабочие могут теперь бесплатно лечиться в санаториях, которые недавно были по карману лишь буржуазии, – сказал Бурлюк. – И могут себе позволить такие автомобили.
- Мой друг не простой рабочий. Он инженер, к тому же ведущий. Извините, он совсем не говорит по-русски.
- В таком случае мы перейдём на французский. Да, товарищ?
Водитель улыбнулся:
- Конечно.
Дорога до санатория «Есениус» заняла десять минут. В самом конце пути Илья спросил:
- Давид Давидович, почему вам так важно было увидеть могилу этого человека? Кто он для вас?
- Дорогой Илья, вы же пишете о Маяковском? Приходите к нам в четыре. Пойдём вместе к колоннаде, пить назначенную доктором Фридом воду. Заодно и поговорим.
К четырём дождь прекратился. Когда Бурлюки спустились в холл, молодой человек уже ждал их.
- Чудесная гостиница, – сказал Бурлюк. В самом центре. Великолепно кормят и лечат. Уже в семь утра нас будит горничная – она приносит первую воду. Вы, чехи, молодцы – не отправили бывших хозяев в расход, как это сделали в России. Потому и порядок. Доктору Фриду, конечно, вряд ли хотелось расставаться со своим имуществам, но он продолжает работать по профессии. А кто может знать всё здесь лучше, чем он?
- Вы же помните, Давид Давидович, я македонец. Беженец. Но и меня тут приняли, дали возможность бесплатно учиться, а теперь вот за счёт государства отправили сюда лечиться. До сих пор в это не верю.
Они вышли из гостиницы и повернули налево, к колоннаде. Над рекой Тепла поднимался пар, утки перебирали ногами по дну, медленно идя против течения. Вдоль колоннады прогуливались пары, а всегдашние карловарские пальмы в кадушках пытались создавать иллюзию южного города. В ноябре это у них уже плохо получалось.
- Вы спрашивали, дорогой Илья, о том, кто этот человек. Я скажу, но сначала хочу поблагодарить вас за то, что вы рассказали нам об этой могиле, и за то, что уговорили своего товарища отвезти нас к ней.
- Я узнал о ней совершенно случайно. Мой университетский друг – большой поклонник Матисса. Как-то он упомянул, что в Карлсбаде похоронен какой-то знаменитый русский коллекционер, лично знавший Матисса и покупавший у него работы. Сказал, что могила находится в самом конце кладбища. Я подумал, что вам может быть это интересно. Я и сам был там сегодня впервые.
- А вы знаете, что я рисовал в Париже, у Кормона, на том же мольберте, на котором перед этим рисовал Матисс? А потом выставлялся с ним у Издебского и встречался в Москве? Ну ладно, это не так важно. Важно то, что мы вас встретили, и то, что успели побывать на кладбище. И всё это – за день до отъезда. Это просто чудо.
Давид Бурлюк посмотрел на жену. Она молча кивнула.
- Его могила считалась утраченной. Её искали во Франции, в Швейцарии… Никто не знал, где он похоронен. Разве что ближайшие родственники. А ведь когда-то его имя гремело по всей России. Иван Абрамович Морозов… Впервые я побывал в его доме весной 1910-го года. Тогда же я увидел и коллекцию его друга и соперника, Сергея Щукина. Это был переворот. Всё, чему я учился до тех пор, пошло на сломку. После этого я уже точно знал, что буду делать дальше. Какой у Морозова был Сезанн! Даже не знаю, у кого в то время было больше работ Сезанна, чем у него. Я себя считал тогда постимпрессионистом, и Сезанн был для меня следующим шагом. Мы с братом прошли его быстро. За ним последовал Пикассо.
- А Маяковский бывал в его доме?
- Конечно. Без этого было никак нельзя. Хотя попасть к Ивану Абрамовичу было гораздо сложнее, чем к Щукину. Сергей Петрович иногда сам даже экскурсии по дому проводил. Кстати, как называется ваша дипломная работа?
- «Маяковский как лирик».
- Замечательно. Илья Костовский. Мы напишем о вас в нашем журнале. Но пойдёмте назад – у нас в шесть ужин, а потом концерт в музыкальном холле отеля «Москва». Чайковский и Хачатурян. Отель «Москва»… Интересно, как он назывался раньше?
- Грандотель «Пупп».
- Давно переименовали?
- Кажется, шесть лет назад, в 1951-м.
- Понятно. Интересно, где теперь раскулаченные хозяева. С этим всегда дилемма – с одной стороны, не хочешь оказаться на их месте, с другой радуешься, что в их отеле теперь могут остановиться и простые люди. То же и с коллекциями Щукина, Морозова… Хотел бы я, чтобы мою собственную коллекцию национализировали? Наверное, нет.
Бурлюк взял жену под руку, и они не спеша пошли к гостинице.
Когда они возвращались с концерта, было уже темно. Свет полной луны был ярче света фонарей на набережной. Бурлюки медленно шли вдоль реки. Несмотря на вечернюю прохладу, возвращаться домой не хотелось.
- Прекрасный Чайковский и прекрасный Хачатурян. Скажи, Марусенька, ты не скучаешь по музыке?
- Даже когда я не играю, она звучит у меня в голове, милый.
Они поднялись к себе в номер, на третий этаж. Не снимая плаща, Давид Давидович открыл дверь на балкон, шагнул на него, облокотился на перила и надолго замолчал.
Через несколько минут жена вышла к нему.
- Ты думаешь о Морозове, милый?
- Да, Марусечка.
- Он был великим человеком.
- Да. С отличным, почти безупречным вкусом.
- Почти?
- Ну ведь тогда, на первом «Венке», он купил работу Ларионова, а не мою. Но сейчас не об этом. Ты понимаешь, что интересно? Он ведь собирал коллекцию для себя, а помог мне. И сотням других художников. И вот один из величайших мировых коллекционеров похоронен в провинции, не глухой, но провинции, у дальней стены кладбища, и никто, кроме случайных людей, не знает, где его могила. Ну и что? Всё равно ведь о нём помнят и будут помнить многие поколения. Имя его сохранится в истории благодаря его делам.
- Как и твоё, милый.
- Очень надеюсь на это. Сегодня утром, у его могилы, я решил. Не хороните меня на кладбище. Не устраивайте торжеств. Просто кремируйте и развейте мой прах над океаном. Если кто-то захочет меня помянуть, пусть прочтёт мои стихи или сходит в музей, где висят мои работы.
- Хорошо, милый. Но с одним условием.
- Каким?
- Мой прах развеют вместе с твоим.
Словно не замечая усиливавшегося с каждой минутой дождя, пара пожилых людей молча стояла у дальней стены старого кладбища, пристально вглядываясь в полустёртые буквы надгробия. На фоне соседних оно выглядело необычно. Простой белый крест с отсутствием скульптурных украшений более естественно смотрелся бы на любом российском кладбище; здесь же, на городском кладбище Карловых Вар, где чуть ли не каждое надгробие было маленьким скульптурным шедевром, он выглядел аскетично.
Мужчина, когда-то высокий и крупный, а теперь ссутулившийся, так, как обычно сутулятся очень пожилые люди, снял с головы бейсболку, и, взяв её обеими руками, прижал к промокшему под дождём бежевому плащу. Бейсболка тоже смотрелась в этих местах чужеродно – Карловы Вары от Нью-Йорка всё-таки отделяют тысячи километров.
- Папа, ты простудишься, – участливо сказала его спутница. Её светлый плащ тоже промок, как и причудливая чёрно-белая шляпка, служившая скорее украшением, недели защитой от непогоды.
Державшийся на почтительной дистанции позади них молодой человек поддержал её:
- Давид Давидович, Мария Никифоровна права. Вы не для того два месяца лечились, чтобы под конец заболеть. Всё же ноябрь на дворе.
Молодой человек с трудом подбирал русские слова, произнося их с отчётливо выраженным балканским акцентом.
Давид Бурлюк молча надел бейсболку и с явной неохотой отошёл от могилы. Сделав несколько шагов, он внезапно развернулся и поклонился.
За воротами кладбища их ждал автомобиль, новая красная Шкода-Спартак.
- Спасибо вам, Илья. До сих пор не могу поверить, что простые рабочие могут теперь бесплатно лечиться в санаториях, которые недавно были по карману лишь буржуазии, – сказал Бурлюк. – И могут себе позволить такие автомобили.
- Мой друг не простой рабочий. Он инженер, к тому же ведущий. Извините, он совсем не говорит по-русски.
- В таком случае мы перейдём на французский. Да, товарищ?
Водитель улыбнулся:
- Конечно.
Дорога до санатория «Есениус» заняла десять минут. В самом конце пути Илья спросил:
- Давид Давидович, почему вам так важно было увидеть могилу этого человека? Кто он для вас?
- Дорогой Илья, вы же пишете о Маяковском? Приходите к нам в четыре. Пойдём вместе к колоннаде, пить назначенную доктором Фридом воду. Заодно и поговорим.
К четырём дождь прекратился. Когда Бурлюки спустились в холл, молодой человек уже ждал их.
- Чудесная гостиница, – сказал Бурлюк. В самом центре. Великолепно кормят и лечат. Уже в семь утра нас будит горничная – она приносит первую воду. Вы, чехи, молодцы – не отправили бывших хозяев в расход, как это сделали в России. Потому и порядок. Доктору Фриду, конечно, вряд ли хотелось расставаться со своим имуществам, но он продолжает работать по профессии. А кто может знать всё здесь лучше, чем он?
- Вы же помните, Давид Давидович, я македонец. Беженец. Но и меня тут приняли, дали возможность бесплатно учиться, а теперь вот за счёт государства отправили сюда лечиться. До сих пор в это не верю.
Они вышли из гостиницы и повернули налево, к колоннаде. Над рекой Тепла поднимался пар, утки перебирали ногами по дну, медленно идя против течения. Вдоль колоннады прогуливались пары, а всегдашние карловарские пальмы в кадушках пытались создавать иллюзию южного города. В ноябре это у них уже плохо получалось.
- Вы спрашивали, дорогой Илья, о том, кто этот человек. Я скажу, но сначала хочу поблагодарить вас за то, что вы рассказали нам об этой могиле, и за то, что уговорили своего товарища отвезти нас к ней.
- Я узнал о ней совершенно случайно. Мой университетский друг – большой поклонник Матисса. Как-то он упомянул, что в Карлсбаде похоронен какой-то знаменитый русский коллекционер, лично знавший Матисса и покупавший у него работы. Сказал, что могила находится в самом конце кладбища. Я подумал, что вам может быть это интересно. Я и сам был там сегодня впервые.
- А вы знаете, что я рисовал в Париже, у Кормона, на том же мольберте, на котором перед этим рисовал Матисс? А потом выставлялся с ним у Издебского и встречался в Москве? Ну ладно, это не так важно. Важно то, что мы вас встретили, и то, что успели побывать на кладбище. И всё это – за день до отъезда. Это просто чудо.
Давид Бурлюк посмотрел на жену. Она молча кивнула.
- Его могила считалась утраченной. Её искали во Франции, в Швейцарии… Никто не знал, где он похоронен. Разве что ближайшие родственники. А ведь когда-то его имя гремело по всей России. Иван Абрамович Морозов… Впервые я побывал в его доме весной 1910-го года. Тогда же я увидел и коллекцию его друга и соперника, Сергея Щукина. Это был переворот. Всё, чему я учился до тех пор, пошло на сломку. После этого я уже точно знал, что буду делать дальше. Какой у Морозова был Сезанн! Даже не знаю, у кого в то время было больше работ Сезанна, чем у него. Я себя считал тогда постимпрессионистом, и Сезанн был для меня следующим шагом. Мы с братом прошли его быстро. За ним последовал Пикассо.
- А Маяковский бывал в его доме?
- Конечно. Без этого было никак нельзя. Хотя попасть к Ивану Абрамовичу было гораздо сложнее, чем к Щукину. Сергей Петрович иногда сам даже экскурсии по дому проводил. Кстати, как называется ваша дипломная работа?
- «Маяковский как лирик».
- Замечательно. Илья Костовский. Мы напишем о вас в нашем журнале. Но пойдёмте назад – у нас в шесть ужин, а потом концерт в музыкальном холле отеля «Москва». Чайковский и Хачатурян. Отель «Москва»… Интересно, как он назывался раньше?
- Грандотель «Пупп».
- Давно переименовали?
- Кажется, шесть лет назад, в 1951-м.
- Понятно. Интересно, где теперь раскулаченные хозяева. С этим всегда дилемма – с одной стороны, не хочешь оказаться на их месте, с другой радуешься, что в их отеле теперь могут остановиться и простые люди. То же и с коллекциями Щукина, Морозова… Хотел бы я, чтобы мою собственную коллекцию национализировали? Наверное, нет.
Бурлюк взял жену под руку, и они не спеша пошли к гостинице.
Когда они возвращались с концерта, было уже темно. Свет полной луны был ярче света фонарей на набережной. Бурлюки медленно шли вдоль реки. Несмотря на вечернюю прохладу, возвращаться домой не хотелось.
- Прекрасный Чайковский и прекрасный Хачатурян. Скажи, Марусенька, ты не скучаешь по музыке?
- Даже когда я не играю, она звучит у меня в голове, милый.
Они поднялись к себе в номер, на третий этаж. Не снимая плаща, Давид Давидович открыл дверь на балкон, шагнул на него, облокотился на перила и надолго замолчал.
Через несколько минут жена вышла к нему.
- Ты думаешь о Морозове, милый?
- Да, Марусечка.
- Он был великим человеком.
- Да. С отличным, почти безупречным вкусом.
- Почти?
- Ну ведь тогда, на первом «Венке», он купил работу Ларионова, а не мою. Но сейчас не об этом. Ты понимаешь, что интересно? Он ведь собирал коллекцию для себя, а помог мне. И сотням других художников. И вот один из величайших мировых коллекционеров похоронен в провинции, не глухой, но провинции, у дальней стены кладбища, и никто, кроме случайных людей, не знает, где его могила. Ну и что? Всё равно ведь о нём помнят и будут помнить многие поколения. Имя его сохранится в истории благодаря его делам.
- Как и твоё, милый.
- Очень надеюсь на это. Сегодня утром, у его могилы, я решил. Не хороните меня на кладбище. Не устраивайте торжеств. Просто кремируйте и развейте мой прах над океаном. Если кто-то захочет меня помянуть, пусть прочтёт мои стихи или сходит в музей, где висят мои работы.
- Хорошо, милый. Но с одним условием.
- Каким?
- Мой прах развеют вместе с твоим.
